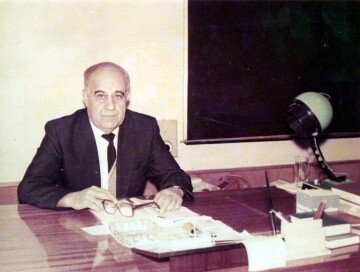Профессия – реставратор

В Азербайджанском национальном музее искусств проходит выставка «Реставрация: дань прошлому, наследие для будущего», посвященная 65-летию заслуженного художника Азербайджана, реставратора высшей категории Натига Сафарова. Сегодня он рассказывает читателям нашей газеты, как пришел в эту редкую профессию и что считает для себя в ней главным.
Натиг Сафаров вот уже 15 лет возглавляет отдел научной реставрации Музея искусств. На его счету тысячи восстановленных произведений: живописные полотна, графические листы, произведения декоративно-прикладного искусства...

– Как вы пришли к выбору этой профессии?
– Я буквально вырос в ее атмосфере и полюбил с детства. Дело в том, что первый азербайджанский реставратор Фархад Гаджиев – мой дядя. В 1957 он окончил в Москве учебу по специальности «Реставрационное дело» и приехал в Баку. Я родился три года спустя после его возвращения на родину и потом, лет этак с семи, проводил много времени у него в мастерской. Наблюдал, как он работает, восстанавливает различные произведения искусства. Став постарше, и сам стал помогать ему по мелочам. И постепенно пришел к убеждению, что тоже буду реставратором, как дядя Фархад.
В 1975 году я поступил в художественное училище имени А.Азимзаде, а после его окончания, в 1980-м пришел на работу в основанный Фархадом Гаджиевым Центр научной реставрации музейных ценностей и реликвий. В 1984 году окончил в Москве четырехгодичные курсы реставраторов. И вот по сей день работаю в этом деле. Мне довелось поработать с самыми разными произведениями, в том числе созданными корифеями азербайджанского и зарубежного искусства.
– Вы – реставратор, которого можно назвать универсалом, поскольку работаете в различных техниках. И все-таки, наверное, есть что-то любимое… Что это – живопись, графика, прикладное искусство?
– Я работаю с очень разными произведениями искусства – живописными полотнами, графическими листами, произведениями декоративно-прикладного искусства, и все они для меня одинаково родные и близкие. Потому что имеют нечто общее – они «больны», а я могу их вылечить, то есть отреставрировать. И хотя процессы восстановления, допустим, керамики, живописи или графики очень разные, все они доставляют мне одинаковое удовольствие. Когда ко мне попадает «больное» произведение, с повреждениями – я тут же представляю, как оно будет выглядеть в отреставрированном виде, и это стимул к работе. А когда смотрю на него уже по завершении, вижу полностью отреставрированным и ощущаю огромную разницу по сравнению с исходным этапом, то очень горжусь тем, что сумел так успешно поработать и теперь уже никто и не подумает, что некогда произведение это находилось в бедственном состоянии.

– Если бы вас попросили выбрать какой-то инструмент, который мог бы стать символом работы реставратора, на каком бы вы остановились?
– Реставрация – это совмещение сразу нескольких наук: физика, химия, математика, геометрия, энтомология, микробиология… И все они в этой сфере в тесной взаимосвязи друг с другом. Поэтому в реставрационном деле используется много современного оборудования для различных анализов – рентгеновского, ультрафиолетового, инфракрасного, спектрального. Больше всего мне нравится оборудование для спектрального анализа. Спросите почему? Потому что когда я смотрю, скажем, на какой-то фрагмент картины, то визуально как технолог сразу могу определить, что там, к примеру, смесь четырех красок. Но все же последнее слово за техникой. И вот я провожу спектральный анализ и жду его результатов, как ответа на интереснейшую загадку. И если он подтверждает мои выводы, радуюсь как ребенок. Или, скажем, когда при анализе в ультрафиолетовых лучах выясняется, что такой-то фрагмент полотна или подпись автора – подлинные, оригинальные, это тоже вызывает огромную радость.
– Работа над какими экспонатами вам запомнилась больше всего?
– Это было в далеком 1980 году. Мой первый самостоятельный опыт в реставрационном деле. Это была икона, спасенная из пожара. От пламени она вся покрылась густым черным слоем копоти. Слой олифы, которым икона была покрыта изначально, сморщился и закаменел так, что стал напоминать янтарь. Изображения под ним совершенно не было видно. Я очищал икону по крупицам, по сантиметру. И каждый участок, который открывался, был словно фрагмент шарады. Очень хотелось разгадать, какой же там сюжет. Это так увлекало, что я даже не заметил, как пролетело шесть месяцев. И когда наконец закончил эту кропотливую работу, привел икону в первозданный вид, окончательно убедился, что хочу выбрать профессию реставратора. Та икона и мой долгий труд по ее очистке от копоти навсегда запечатлелись в моей памяти как разгадывание прекрасной загадки и начало моего профессионального пути.

– Вы известны не только как реставратор, но и как живописец. Как обе профессии дополняют друг друга и как вы находите баланс времени, чтобы распределять силы между ними?
– Как художник я часто участвовал в выставках – последний раз это было, например, пару лет назад. Мои работы хранятся в нашем Музее искусств, Государственной картинной галерее Азербайджана, в Музее археологии Норвегии в Осло и в частных галереях, в том числе в арабских странах, США… Конечно, времени на личное творчество остается не так уж много, но я стараюсь выкраивать. По окончании рабочего дня реставратора обычно прихожу в свою творческую мастерскую и задерживаюсь там допоздна, пишу картины. Иногда – для себя, иногда – кому-то в подарок. Работаю по большей части в классической манере, однако иногда позволяю себе сделать что-то в авангардном или сюрреалистическом стиле – просто чтобы доказать себе, что это я тоже могу. А уж насколько хорошо это все у меня получается – судить зрителям.
– И напоследок – традиционный вопрос о планах…
– Мои планы на будущее связаны не столько с реставрационным делом как таковым – там все налажено, я заложил определенные основы, много потрудился и еще поработаю, – сколько с воспитанием молодых специалистов. Кое-что в этом направлении уже сделал. Сейчас у меня в лаборатории сплошь молодые ребята, очень любящие свою работу. Но главная моя мечта – чтобы молодежь в нашей стране могла получать высшее образование по специальности «реставратор».
Я очень благодарен директору нашего музея Ширин Меликовой, которая организовала здесь практику для студентов художественных вузов, в том числе в нашем отделе. Для студентов, которые проявляют особый интерес к реставрации, у нас проводятся курсы. Хочу также поблагодарить руководство Азербайджанского государственного университета искусств за то, что они предоставили возможность своим магистрантам изучать реставрационное дело. В год эту профессию выбирают в среднем 2-3 человека из числа магистров этого вуза. Некоторые из них уже работают в нашем отделе, причем весьма успешно.

Ну а глобальная моя мечта – чтобы у всех мастерских и лабораторий реставрации в нашей стране – в Музее истории, Музее ковра, в Центре научной реставрации – все было хорошо и чтобы искусство реставрации в нашей стране благополучно развивалось.