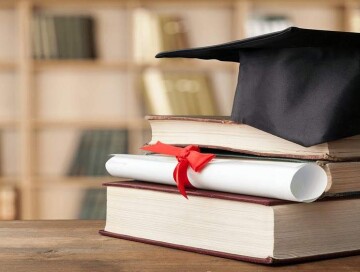Зеленые на словах, но не на деле

Все больше компаний сегодня стремится показать свою экологическую ответственность: это положительно влияет на имидж и привлекает клиентов, которым важна зеленая составляющая товара или услуги. Но зачастую такие декларации – лишь маркетинговый ход.
О том, как отличить честную устойчивость от псевдоэкологичности и что скрывается за термином «гринвошинг», мы поговорили с экспертом по ESG‑коммуникациям Лией Байрамовой.
– Давайте начнем с того, что же такое «гринвошинг» и «гринхашинг».
– Гринвошинг (англ. greenwashing, от green – зеленый и whitewashing – отбеливание), или иначе экоблеф – это сознательная или неосознанная практика завышения экологических заслуг. Например, компания заявляет о «100% биоразлагаемости» упаковки, но не проводит соответствующих проверок. Гринхашинг (от англ. green и hushing – замалчивание) – прямой антипод: компании умалчивают о подлинных экологических инициативах из страха критики или за недостатком коммуникационных навыков. Оба подхода вредят устойчивости: первый создает фальшивый образ, второй мешает обществу узнать о реальных успехах.
– Почему эта тема сейчас столь актуальна?
– Еще несколько лет назад экологические декларации компаний воспринимались как «просьба о внимании», сегодня они – обязательная часть коммуникационной стратегии. Но популярность устойчивости породила и массовую поверхностность: маркетологи спешат навесить зеленые ярлыки на продукты, не убедившись, что за ними действительно стоят изменения. Такое бездумное использование экологической риторики не просто разводит потребителя на эмоции – оно мешает реальным продвижениям в области климата и биоразнообразия.
– Как гринвошинг влияет на доверие потребителей и саму отрасль?
– По исследованию Европейской комиссии, более 50% зеленых заявлений на товарах в ЕС оказались вводящими в заблуждение. Когда покупатели сталкиваются с обманом, они начинают сомневаться во всех экологических лейблах, в том числе и в реально проверенных и сертифицированных. В итоге серьезные инициативы замедляются: люди прекращают доверять маркетинговым сообщениям, а компании, действующие честно, теряют конкурентное преимущество.
– Могли бы привести примеры?
– Конечно. Еще в 2015 году случилась громкая история с компанией Volkswagen и ее проектом «Дизельгейт». После того как в США и Германии было обнаружено программное обеспечение для обхода тестов на выбросы, Volkswagen понес расходы на устранение последствий и судебные расходы на 30 миллиардов долларов.
В Нидерландах в 2022 году был скандал с H&M и Decathlon. Расследование показало, что оба бренда использовали «нечеткие и недостаточно обоснованные» экологические претензии. Компании обязали убрать вводящие в заблуждение «устойчивые» ярлыки, скорректировать коммуникацию и пожертвовать 400 тыс. евро (Decathlon) и 500 тыс. евро (H&M) на экологические проекты.
С 20 июня 2024 года в Канаде вступили в силу поправки к Закону о конкуренции (Bill C‑59), ясно квалифицирующие ложные экологические заявления как недобросовестную практику и позволяющие применять к ним гражданско-правовые и уголовные санкции
В этом году DWS, дочернее подразделение Deutsche Bank по управлению активами, было оштрафовано франкфуртской прокуратурой на 25 миллионов евро за преувеличение объема зеленых инвестиций. Дело закончилось обыском, уголовным расследованием и отставкой генерального директора DWS.
Примеров с каждый днем все больше, и они показывают: ответственности не избежать, и она становится все жестче.
– Что происходит в этом плане в Азербайджане?
– У нас пока нет четких законодательных норм, регламентирующих экологические заявления в рекламе. Это создает «серую зону»: компании либо молчат, опасаясь обвинений в фальсификации, либо заявляют о «100% эко» без единого доказательства. Без государственных стандартов и механизмов контроля ни потребители, ни честный бизнес не защитят свои интересы. Азербайджану важно адаптировать международные практики – например, ввести понятные критерии для использования терминов bio, «эко» и «устойчивый».
– Какую роль в этом должны играть СМИ?
– Огромную. Медиа формируют общественное мнение и определяют вектор дискуссии. Если журналисты не задают ключевых вопросов: «Кто и как верифицировал эту информацию?», «Какие независимые тесты подтверждают заявления?», – они становятся соучастниками гринвошинга. Наша цель – не просто информировать, а воспитывать критическое мышление и развивать зеленое внимание в обществе.
– Как компаниям избежать обвинений в гринвошинге?
– Быть прозрачными, публиковать полные отчеты об экологических показателях, включая методологию измерений, проходить сертификацию, опираясь на международно признанные стандарты – ISO 14001, GRI.
Огромную роль играет коммуникация. Необходимо рассказывать не только о целях, но и о промежуточных результатах, даже негативных, если они были. Ну и, конечно, важна обратная связь: активно слушать потребителей и экспертов, корректировать курс на основе независимых аудитов и отзывов. Только так можно выстроить долгосрочное доверие и превратить устойчивость в часть корпоративной культуры, а не в разовый PR‑ход.
Государству в свою очередь важно установить четкие требования к обоснованию экологических заявлений, создать независимые органы проверки и штрафные механизмы за нарушение правил. И, наконец, необходимо проводить регулярные образовательные кампании для бизнеса и общественности по различию между маркетинговыми зелеными заявлениями и реальными экологическими действиями.
– Как вы видите будущее борьбы с гринвошингом?
– С одной стороны, тренд на устойчивость лишь укрепится – потребители становятся все более требовательными и информированными. С другой – компании научатся быть честными и прозрачными, потому что на кону репутация и даже уголовная ответственность. В итоге мы придем к новой зеленой норме, где экологические принципы будут не просто рекламным ходом, а неотъемлемой частью бизнеса и общественной жизни. Устойчивость – это не разовая кампания, а культура.