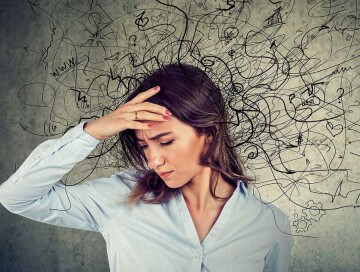Учитель как проводник знаний

Школа сегодня переживает глубокие перемены: современные технологии меняют формат уроков, а ученики имеют доступ к тем же источникам знаний, что и преподаватель. При таком раскладе роль учителя становится особенно многогранной и ответственной.
Школа – это портал в мир знаний, а учитель – проводник, который хорошо знает дорогу и способен объяснить сложные вещи простым языком. А еще он формирует основу будущего. Мы побеседовали с педагогом по биологии Лейлой Галандарли о том, почему интерес ученика важнее любых стандартов, как сохранить вдохновение в профессии и каково оно – образование грядущего поколения.
– Профессия учителя традиционно под недремлющим оком родителей, государства и общества. Что вы ощущаете наиболее остро?
– Я не воспринимаю это как давление. Это скорее система взаимных ожиданий, где каждый элемент играет свою роль. Родители ждут прозрачности и результата, государство контролирует стандарты и качество, а общество видит в учителе образец культуры и поведения. Педагогу важно сохранять баланс между всем этим, не теряя собственного профессионального стержня.
Иногда случаются весьма показательные истории. После одной контрольной работа ученика удивила даже его родителей: они признались, что не знали о его интересе к теме здоровья и питания. Для меня это подтверждение того, что урок может стать точкой роста не только в знаниях, но и в самоопределении. Когда между учителем, родителями и детьми возникает доверие, ожидания превращаются в сотрудничество.
– Чьи ожидания оказываются наиболее важными – родителей, администрации или учеников?
– Самые значимые для меня – конечно, ожидания учеников. Они приходят с живым запросом: «Помоги понять» – и ждут не только информации, но и отклика. Это требует высокой внутренней собранности. Однажды после урока школьник спросил меня: «А правда, что у осьминога три сердца?» – и это не просто биологический вопрос, а проявление познавательной активности. С таких моментов начинается настоящее обучение.

– Что чаще всего приводит к усталости и профессиональному выгоранию?
– Выгорание возникает, когда теряется смысл происходящего. Когда живая работа подменяется отчетами, таблицами и формальными заданиями. Но интерес можно вернуть – стоит только вспомнить, зачем ты пришел в профессию.
Как-то раз мы проводили урок на свежем воздухе: наблюдали за осенними листьями, говорили о связи человека с природой. После занятия один ученик сказал: «Я впервые понял, что учусь не ради оценки». Или другой случай: во время учебного квеста ребенок, обычно пассивный, вдруг оживился: «Это как сериал, и я в нем – доктор!». Такие моменты возвращают энергию, потому что в них есть контакт и смысл.
– В условиях открытого доступа к информации какую роль играет живое общение учителя с учеником?
– Оно становится ключевым элементом обучения. Информация больше не дефицит, но умение работать с ней требует посредника – человека, который задает рамки, смысл и контекст. Когда мы обсуждали тему гормонов, я спросила: «Почему подростков так качает эмоционально?». Сначала в классе повисла тишина, а потом начался откровенный разговор, где биология перешла в обсуждение самоощущений. Такие уроки помогают ученикам соединить теорию с личным опытом. Живое общение формирует доверие и аналитическое мышление – то, чего не даст ни один цифровой ресурс.

– Можно ли сказать, что роль педагога смещается от передачи знаний к развитию аналитического мышления?
– Да, и это главная тенденция современного образования. Учитель перестает быть носителем готовых ответов и становится модератором мышления. Однажды мы проводили занятие о мифах и фейках. Девочка спросила: «Можно ли заразиться ВИЧ через поцелуй?». Я ответила вопросом: «А как ты сама думаешь?». И мы вместе искали информацию, обсуждали источники, составляли карту мифов. В итоге ученики сами пришли к выводу, что не все услышанное – истина. Такой подход формирует критическое мышление и ответственность за собственные выводы.
– На что современным детям стоит делать особый акцент в процессе обучения?
– На умении видеть взаимосвязь: между теориями и реальной жизнью, человеком и окружающей средой, действиями и их последствиями. К примеру, в проекте «Животное как инженерная система» один ученик выбрал летучую мышь: собрал модель крыла, сравнил ее с самолетом, объяснил принципы биолокации. А завершил свою презентацию словами: «Я хочу стать инженером, но сначала хочу научиться чему-то у природы». Подобные примеры показывают, что знание становится личным опытом, когда ученик видит практическую логику мира.
– Как вы представляете себе образ учителя будущего?
– Это координатор образовательного процесса, наставник, соединяющий технологии и личное взаимодействие. Технологии, включая виртуальную реальность, уже позволяют детям буквально погружаться в материал. Представьте урок, где ученики исследуют клетки в виртуальной среде, а затем выходят на улицу, чтобы рассмотреть реальные растения. Но ключевой при этом останется личность педагога – его способность мотивировать, задавать вопросы, удерживать внимание. Цифровые инструменты эффективны лишь тогда, когда за ними стоит человек с внутренней культурой и педагогическим смыслом.
– Если убрать все стандарты и отчеты, чему бы вы стали учить детей в первую очередь?
– Я бы учила их замечать жизнь во всех ее проявлениях и относиться к ней с уважением. Однажды мы с учениками выращивали фасоль – обычный биологический эксперимент. И ученик признался: «Я думал, растение – это просто зелень, а теперь вижу, что оно живое». Такие наблюдения развивают внимание, ответственность и эмпатию. Моя цель – помочь детям видеть целостную картину мира: понимать, что за каждым явлением стоит процесс, а за каждым фактом – своя история. Обладая таким взглядом, ребенок готов встретить будущее в любой его форме.
ХАНУМ ГАДИРЛИ